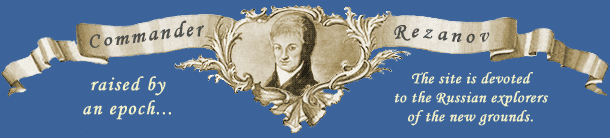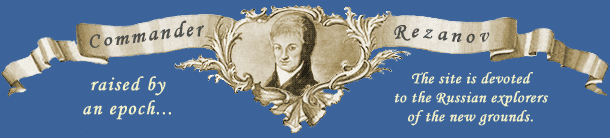§ Проза
Избранные главы романа Гектора Шевиньи «Утраченная империя»
« ...Я хочу в Европу съездить... И ведь знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я знаю заранее: паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...»
Федор Достоевский «Братья Карамазовы»
Кто есть кто
Лангсдорф Георг Генрих фон (Григорий Иванович) (1774-1852), немецкий натуралист и этнограф, с 1821 г. действительный член Петербургской АН. К первой русской кругосветной экспедиции присоединился в Копенгагене. После возвращения из Японии отправился с Н.П. Резановым на судне «Св. Мария» в Америку. В 1807 году из Охотска через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург, завершив, таким образом, кругосветное путешествие. В 1812 году русский консул в Бразилии. В 1821-28 гг. руководитель русской экспедиции во внутренние районы Бразилии.
Давыдов Гаврила Иванович (1784-1809) — мичман российского флота. Состоял на службе Российско-Американской компании. Друг капитана Н.А. Хвостова. Под его командованием плавал к берегам Калифорнии и Японии на кораблях «Юнона» и «Авось». Трагически погиб вместе с Н.А. Хвостовым в Петербурге.
Баранов Александр Андреевич (1774-1819) — каргопольский купец, вел торговлю в Сибири, был совладельцем (совместно с Э. Лаксманом) Тальцинской стеклодельной фабрики под Иркутском; с 1790 г. на службе в компании Г.И. Шелихова, затем в Российско-Американской компании. Организатор и исследователь Русской Америки. С 1803 по 1818 г. занимал официальный пост Главного правителя Российских колоний в Америке. Умер, возвращаясь в Россию.
Гектор Шевиньи. Утраченная империя.
Жизнь и приключения Николая Петровича Резанова
Прощание доктора Лангсдорфа
Фрейбург. Германия. Октябрь 1851 года. Постаревший доктор Лангсдорф, сидя в глубоком кожаном кресле, в третий раз задумчиво перечитывает письмо. Время от времени его взгляд отрывается от чтения, он смотрит в большое окно, за которым весь день беспрерывно льет дождь. Когда-то давно, в юности, он любил под аккомпанемент дождя помечтать у горящего камина... Но Лангсдорф давно не мечтал. Он уже не рвался в Бразилию, чтобы пополнить свою коллекцию, не отвечал на приглашения из Португалии, давно не бывал в Санкт-Петербурге, где его осыпали почестями.
Осенние дожди Фрейбурга не вызывали у него прежних возвышенных чувств. Его одряхлевшие кости ныли в непогоду. Иногда боль становилась нестерпимой, тогда Лангсдорф почти не двигался. Он шутил, что это — следствие научного любопытства, которое заставляло его болтаться по самым отдаленным и опасным уголкам земного шара. Но сегодня ему было не до шуток. Весь день у него было чувство нарастающей тоски, и письмо, принесенное ему камердинером час назад, только усилило ее. Медленно, чувствуя боль во всем теле, он поднялся с кресла, подошел к окну. Там, поверх высоких деревьев, нечетко различались готические шпили Фрейбурского собора, самого величественного и старого в Европе. Все было сыро от дождя. Мрачный день. В такую погоду старики чувствуют, что смерть не за горами. Минуло 78 лет со дня, когда в городке Райнгессе увидел свет Георг Генрих фон Лангсдорф. За свою жизнь он объехал весь мир. Его книги и статьи в научных журналах заняли место на полках многих библиотек. Он вернулся в Германию, во Фрейбург, чтобы закончить здесь свои дни. Ему наскучили заморские страны и окружение незнакомых людей. Тоска по чему-то хорошо известному, спокойному и, прежде всего, истинно немецкому привела его в маленький немецкий городок, где у него появилась возможность спокойно вспомнить все свои дела и прожитые годы. Но и здесь он продолжал казнить себя за ту, может быть, единственную ошибку в жизни. Это письмо напоминало ему о ней, бередило душу.
Как и многие врачи в преклонных годах, Лангсдорф спокойно принимал каждый симптом своей болезни, воспринимал как-то отстраненно, будто бы все это происходило не с ним. Но он не в силах был пересилить душевный кризис. Должен ли он проливать слезы, вспоминая грехи молодости, старый немецкий ученый, много повидавший в жизни? Что же происходит с ним сегодня?
Письмо жгло ему руку. Лангсдорф вспоминал места, где бывал двадцать, тридцать, сорок лет тому назад. Новое поколение ученых, работающие в тех же местах, часто слали ему письма благодарности за его открытия, изредка — вежливое несогласие с его идеями. Он решил, что сам толкает себя в пропасть тем, что слишком много думает впустую. Нужно взяться за работу над новыми статьями и работать до тех пор, пока рука в силах держать перо. Он снова приблизил письмо к глазам. «Пуэрто Сан-Франциско сильно изменилось с тех пор, когда Вы, уважаемый доктор, посетили его в 1806 году. Сейчас здесь снуют янки. Мы отправились в новый монастырь, построенный орденом доминиканцев в Монтерее, чтобы увидеть, как первая монахиня облачается в белую мантию. Это была шестидесятилетняя женщина. Нам показалось, что это неподходящий возраст, чтобы стать монахиней. Все стало понятно, когда открылось, что она была обручена когда-то с Николаем Петровичем Резановым, с которым Вы путешествовали...»
Да, минуло сорок пять лет с тех пор, как он посетил Калифорнию. Четверть века он ничего не слышал о Резанове. Среди запылившихся от времени книг в его библиотеке было три работы Резанова: журнальные публикации об экспедиции «Надежды», алеутско-русский словарь, написанный в Ново Архангельске, а также небольшой манускрипт — первый русско-японский разговорник.
Они все принимали участие в его составлении, проводя долгие годы ожидания в Нагасаки. Резанов был первым, кто предвидел, что в будущем понадобится такой разговорник. Там, в Японии их ждала неудача. Вообще же Николаю Петровичу всегда везло. Лангсдорф снова, как наяву, увидел русского камергера — широкоскулого, с подвижными губами, надменного и самонадеянного. Он вспомнил, как Резанов не любил медленно думающих людей, и сам обладал способностью по нескольким штрихам видеть истинную картину. Он стремился всегда главенствовать, часто входил в раж, если было что не по нем.
Фон Лангсдорф имел неосторожность испытать на себе гнев Резанова, когда все экспонаты натуралиста полетели за борт в воды залива Сан-Франциско. Он, фон Лангсдорф, хорошо помнил, что камергер обещал не мешать научной работе, а на самом деле довел натуралиста до слез, унизил перед промышленниками.
С тех пор минуло 45 лет. С вершины лет, этот эпизод потерял прежнюю жгучесть и не шел ни в какое сравнение с тем, как он, доктор Лангсдорф, отплатил Резанову. Он с трудом вспомнил, что за экспонаты были выбрашены Резановым за борт. Золотокрылый дятел... Остальное стерлось из памяти.
Фон Лангсдорф возненавидел Резанова. Он написал в своей книге, чтобы всему миру стало известно: «Никогда еще научным изысканиям не чинились такие препоны. Все, что делалось для меня после этого, только изнуряло меня. Я утратил бумаги, на которых высушивал свои экспонаты... и я окончательно воспротивился приказанию камергера фон Резанова выполнять функции не только переводчика, но и посредника в делах с испанцами».
Молодые люди слишком строго судят других и доверяют свои мысли бумаге. Теперь, когда он стал больным стариком, эти слова вернулись к нему через годы, как бумеранг. Следует признать, что в его научном трактате об этом необычайном путешествии явно не хватало рассудительности, слишком часто просматривается личная точка зрения. Теперь Лангсдорф знал, что во многом его критики были правы, сто раз правы.
Он искренне верил, что посвятил себя науке, но в любом случае он был обязан помочь русскому камергеру. Но не сделал этого.
Резанов неоднократно просил его не проводить, по крайней мере, не консервировать свои экспонаты в трудные для русских дни в Калифорнии, а он, фон Лангсдорф, обвинил его в нарушении слова. Возможно, именно это воспоминание так тяготило теперь его душу — воспоминание о том, как он однажды поставил чистую науку выше человеческой жизни. Если бы он простил Резанову его, в общем-то, оправданную ситуацией резкость, ему не пришлось бы сейчас, стоя на коленях, вымаливать прощения у души Резанова, а шестидесятилетней женщине не пришлось бы молиться в монастыре доминиканцев в Монтерее за упокой его, Резанова, души.
Впервые Лангсдорф понял, что он выглядел нелепо, как ребенок, стесненный неудобствами. Что с того, что в его информации о флоре и фауне Калифорнии был бы пробел? Пришел бы кто-нибудь другой восполнил бы... Тогда он не понимал, что не каждому выпадает быть свидетелем и прямым участником великой драмы, драмы большой любви, в которой рождается новая нация. Правда, ему удалось увидеть только один акт, потом он, будучи одним из ее режиссеров, покинул свой пост и оставил главному герою только одну участь — замертво упасть на сцене. Даже сейчас он не понимал полностью суть того первого акта, потому что ему не дано было свыше понимания героического характера.
«Эта женщина получала много предложений о браке, — сообщало письмо, — но не приняла ни одного».
Стоя у залитого дождем окна, старый врач размышлял о том, что было бы, если бы Резанов упросил его поехать с ним в совсем не увеселительное путешествие через всю матушку-Сибирь... Все могло быть по-другому. Он, несомненно, спас бы Резанову жизнь. Нельзя было оставлять изможденного камергера одного.
Но Лангсдорф остался с капитаном Вульфом на Камчатском полуострове, наблюдая с берега, как «Авось» уносила камергера в сторону Охотска.
Перед отбытием Николай в последний раз попытался привлечь Лангсдорфа на свою сторону, однако натуралист отказался, сославшись на то, что желает изучить эту еще никому неведомую и плохо развитую часть Российской империи. Они с Вульфом остановились у майора Крупского, коменданта Петропавловска. В конце сентября наблюдатель сообщил, что «Авось» снова у берега. Давыдов объяснил, что шторм не позволил им объединиться с Хвостовым под Уналашкой, и поэтому решено было перезимовать в Петропавловске. Вместе они каждый день выпивали по чарочке и охотились на оленей. Через некоторое в бухту вошла «Юнона». Хвостов тоже решил, что сейчас не время для рискованного предприятия.
В ту зиму они перевернули монотонную жизнь зимнего Петропавловска. Местные жители не чаяли души в «морских волках». Вульфа даже приглашали стать крестным отцом — огромная честь! Люди считали своим долгом помочь им в организации охоты и исследовательских санных экспедиций к дальним островам. Всю зиму натуралист охотился за интересующими его экземплярами, и никто не сказал ему, можно это делать или нет!
У них было веселое время, как у школьников, сбежавших с уроков, Они понимали, что нарушили приказ, но никто здесь не мог наказать их. Весной им пришлось расстаться. Хвостов и Давыдов надеялись на изменение приказа, отданного Резановым. Но ничего из этого не вышло. Вульф и Лангсдорф отбыли в Охотск, чтобы отправиться оттуда в дорогу через Сибирь. Вульф стал первым американцем, совершившим такой переход.
После этого путешествия Лангсдорф и Вульф распрощались. Лангсдорф, имея на руках рекомендации Резанова, открывающие ему все двери, пожелал задержаться по своим научным делам. Де Вульф решил поторопиться.
27 ноября 1807 года Лангсдорф прибыл в Красноярске. Он писал: «Это хорошо обустроенный город на берегу реки Енисей. Он расположен в живописной и плодородной долине и насчитывает около 500 домов и 4 церкви. Но Красноярск в основном интересовал меня как место гибели Резанова...»
Он познакомился с городничим Красноярска, советником Келлером, родившимся во Франкфурте. Келлер был рад встрече с соотечественником, и пригласил пожить у себя.
«Да, — добавил он печально, — мне известны все обстоятельства смерти камергера, поскольку он провел последние часы жизни в этом доме».
Он рассказал, как в зимний полдень в городе поднялось большое волнение, вызванное прибытием каравана из Иркутска. Лаяли собаки. Люди сторонились, уступая дорогу десяти казакам и двадцати лошадям, галопирующим с умопомрачительной скоростью. Когда они остановились, выяснилось, что камергер Резанов, который едет с ними, сейчас без сознания. Он упал с лошади. Келлер сразу же приказал своим слугам растопить огромную печь в гостиной и приготовить мягкую постель. В лице Резанова не было ни кровинки, когда его перенесли в дом. Позвали за красноярским врачом. Всех попросили покинуть комнату, чтобы два врача посовещались без помех.
Казаки рассказали Келлеру, как неожиданно Резанов обессилил и упал с лошади. Они полагали, что камергер получил удар копытом в голову. Через несколько минут из комнаты, где лежал Резанов, появились доктора. Вид их не говорил ничего утешительного. Все усилия привести пациента в чувства оказались тщетными, у него было тяжелое сотрясение мозга и жить осталось считанные часы.
Келлер надел шляпу и плащ и повел Лангсдорфа к маленькому кладбищу. Они остановились перед могилой, появившейся здесь восемь месяцев назад. Лангсдорф потом напишет: «Его могильный памятник — большой камень, которому придана форма алтаря, но на нем не было никакой надписи».
Даже тогда, в Красноярске, доктор Лангсдорф не простил Резанова. Он вспомнил, каким самонадеянным тот был и как всегда и во всем спешил. Прощение пришло только сейчас, во Фрейбурге, вместе с этим унылым дождем. Он и сам был нетерпелив тогда. Он спешил за наградами в Петербург.
«Я достиг Петербурга 16 марта и увидел этот величественный город, самое прекрасное место в Российской империи. Я понял это после того, как исколесил эту страну из конца в конец...»
Каким конченым ослом он оказался! На самом деле его беспокоила другая мысль: «...меня, так много труда вложившего в развитие науки, неужели меня не удостоят...»
Но его удостоили. Лангсдорфа возвели в ранг советника с пенсионом в 300 дукатов ежегодно за участие в экспедиции Крузенштерна. Но это было еще не все. Его привлекли к дипломатической службе. Вот уж поистине ирония судьбы!
Корреспонденция Резанова о Российско-Американской компании, а особенно — о Сан-Франциско, достигла Петербурга. И там о Лангсдорфе были только самые лучшие рекомендации. Хорошее подспорье для начинающего чиновника министерства коммерции! За его «исключительный вклад в дипломатическую миссию Его Императорского Величества» Лангсдорф был направлен в качестве генерального посланника в Бразилию.
Благодаря опять же Резанову у него появилась возможность путешествовать в незнакомым ему местах. Только теперь никто не ограничивал его исследования.
Где же теперь Вульф? Ему было двадцать четыре в 1806, сейчас должно быть 69. Вполне возможно, что он еще жив. Американский шкипер, которого Лангсдорф однажды встретил в Рио, разразился смехом при упоминании о Вульфе:
— Кто не знает Норд-вест Джона! Он бросил свой якорь на горе Надежды и теперь рассказывает всем о своих приключениях в Русской Америке. Особенно часто он вспоминает о «покорении» им Сибири.
Но сам Лангсдорф с болью вспоминал последнюю встречу с Джоном Вульфом. Шел 1809 год. Лангсдорф приехал в отпуск из Бразилии в Петербург. У него были кое-какие мыслишки по одному щекотливому вопросу — германская эмиграция в Бразилию. Он прибыл в город на Неве 6 октября, надеясь на хорошее времяпрепровождение и выполнение своих прожектов. Закончив дела в Адмиралтействе, он вышел на улицу, и стал звать извозчика. Неожиданно он услышал окрик из-за спины, причем его имя было названо дважды. Он обернулся, но в толпе никого не узнал. Потом еще более неожиданно он почувствовал сильный толчок в спину. Ошарашенный, он повернулся. Это был капитан Вульф. Они обнялись. Извозчик уже подъехал, друзья сели в карету и направились вдоль по Невскому.
— Я теперь эксперт в российском бизнесе. Между прочим, я отхватил большущий куш вместе с моими братьями — 100 000 американских долларов за продажу Резанову «Юноны».
— 100 000 долларов? — Лангсдорф прищурился от удивления. — Вульф кивнул головой.
— Да, сэр! Это выплаты по векселям, которые дал мне Резанов, в пересчете с испанских пиастров и русских рублей на американские деньги. А сейчас я доставил груз из Америки в Кронштадт — и вот я перед вами, сэр!
Спокойствие жителей Санкт-Петербурга было нарушено бородатым американским шкипером и немцем, с прической школьника. Они отводили душу, разговаривая басом и хохоча до упаду, и не сразу заметили двух офицеров русского флота, которые с воплями и гиканьем мчались по улицам. Дважды полиция останавливала их, предупреждая о соблюдении спокойствия.
Что за знак судьбы! Даже представить себе невозможно! Хвостов и Давыдов тоже недавно прибыли в Петербург в отпуск после окончания очередной русско-шведской войны. Все четверо не могли опомниться от удивления. «Русские» Новой Калифорнии. Четверка, с успехом сопровождавшая посланника в испанскую провинцию. Каждый из них был свободен, каждый — в прекрасном настроении; все как один решили отметить эту встречу, да так, чтоб она навсегда осталась в памяти.
Сначала они решили остановиться где-нибудь в кабаке и освежиться изнутри. А уж потом они закатят настоящий пир. Решено! Апартаменты Лангсдорфа были на Казанском, туда и доставили блюда и напитки. Десять корзин шампанского! Хвостов и Давыдов прихватили отличный спирт. Каждый следующий стакан Хвостов сопровождал словами: «Хороша петербургская водица!» Все смеялись, вспоминая общие приключения. Лангсдорф поднял бокал и попросил внимания.
— Скажите мне, друзья, как закончилась ваша японская экспедиция?
— Очень плохо, — ответил Давыдов. — Фактически Резанову делать было нечего, вот он и отдал такой приказ. Но что мы могли поделать? — он пожал плечами. — Ведь он был командующим.
Хвостов поднял свой бокал. Шампанское искрилось.
— После того, как вы нас покинули, мы имели чудное время в Петропавловске. На наших кораблях «Юноне» и «Авось» мы отправились «попромышлять» в небольшое поселение Кушунктун. Трофеев было не слишком много: 1000 фунтов риса, немного табака, несколько рыболовных сетей, немного шелковой и хлопковой материи и все их запасы сушеной рыбы. Давыдов подхватил рассказ товарища:
— У нас было только шестьдесят человек и старые ружья, но все равно мы захватили два японских форта в Урюпе. Потом мы, как настоящие пираты, захватили две джонки. Затем мы появились в Хакадате.
Хвостов продолжал:
— Только потом мы узнали из голландских источников, что наделали там много шума. Когда мы вернулись в Охотск за припасами, комендант арестовал нас, и бросил в тюрьму. Нас подозревали в том, что мы все награбили в Курильских поселениях. Затем все выяснили через Петербург и освободили нас. Все из-за проклятых идей Резанова! Давыдов поддержал Хвостова.
— Вот что мы получили в благодарность за то, что оставили службу и связались с этими промышленниками. Мы на своей собственной шкуре испытали, что значит Охотская тюрьма. А о дочери Аргуэлло из Сан-Франциско есть какие-нибудь известия?
Вульф рассмеялся.
— Никто из нас не подходил близко к той стране, чтобы узнать новости. — Он снова поднял свой бокал. — А как вы думаете, Резанов на самом деле собирался вернуться туда, чтобы жениться?
Лангсдорф был страшно удивлен.
— А почему вы спрашиваете об этом? Вульф пожал плечами. — Он никогда не производил впечатления человека, способного полюбить.
Хвостов и Давыдов посмотрели друг на друга. На эту тему они уже говорили, и не раз. Хвостов медленно заговорил:
— Резанов, конечно же, воспользовался ею в своих целях. Но если бы даже он переменил свое решение, он вынужден был бы вернуться обратно. Ведь он был обручен. Случился бы дипломатический конфуз, крах его карьере, если бы он не вернулся. — Вульф наклонился над столом. — Да, но не лучше ли было для него подождать два года, пока ее не отпустят?
Заговорил Давыдов.
— Никто не знает всей правды об этом соглашении. — Вульф насупил брови. — Да, теперь я понимаю, что у Резанова была большая власть. Только в этом случае он мог установить для себя срок в два года. В поддержке русского царя он вообще ни минуты не сомневался, не так ли?
Беседу поддержал Лангсдорф.
— О чем вы спрашиваете, мой дорогой капитан! Многие, кто не чтят законы совести, пообещали бы вернуться через годы и сразу же позабыли про свое слово. Я всегда говорил, что Резанов искренне любил эту женщину и ни на минуту не сомневаюсь в искренности его желания жениться на Консепсьон. Да, он хотел сделать дипломатический маневр, чтобы заполучить опорный пункт в Новой Испании, но он так привязался к ней, что обязательно бы вернулся. Я сомневаюсь, что даже война между Испанией и Россией помешала бы царю дать согласие. Отказ мог быть лишь от короля Испании.
Вульф слегка сконфузился.
— Хорошо, я не очень разбираюсь в таких вещах, но я очень хорошо понял, что эта женщина достойна жалости. А знает ли она о его смерти?
— Бог его знает! Уже около трех лет прошло. В июне закончился двухлетний срок.
Затем они потеряли нить разговора и сосредоточились на еде и шампанском. После двух ночи Хвостов посмотрел на часы и объявил, что он и Давыдов должны вернуться на Васильевский остров. Де Вульф решил остаться у Лангсдорфа.
На улице была кромешная тьма. С трудом удалось поймать извозчика. На Невской набережной они распрощались, предварительно обменявшись адресами и договорившись о следующей встрече. С трудом нашли разводной мост. Свет уличных фонарей колыхался на водной глади. Снова они жали друг другу руки, снова смеялись, удивляясь нежданной встрече... На следующий день Вульф и Лангсдорф тщетно пытались найти друзей по записанным адресам. А еще через день тела Хвостова и Давыдова вынесло на берег Финского залива. Они в темноте и сильном подпитии не заметили, что мост был разведен... Это было 42 года назад.
Шестнадцать лет после того печального эпизода Лангсдорф служил в Рио-де-Жанейро русским генеральным консулом. Туда прибыла исследовательская эскадра под командованием Коцебу, который был кадетом во время блистательного вояжа «Надежды». Задолго до этого Крузенштерн, Лисянский и он, Лангсдорф, опубликовали материалы своего кругосветного плаванья. Однако рапорт об установлении прочного мира я Японией был сделан в 1825 году экспедицией под командованием Коцебу — подтянутого, элегантного, слегка заносчивого молодого человека. Лангсдорф знал, что Коцебу в душе считал вояж «Надежды» безрезультатным, но, как младший, он оказывал уважение годам старшего, говоря ему комплименты, касающиеся его исследований.
— Я очень рад, что вам выпала удача побывать в Калифорнии, — сказал Лангсдорф. — Когда я находился там, мне не удалось провести большого исследования, но все равно там было очень интересно.
Коцебу кивнул головой.
— Я читал об этом в ваших работах, герр доктор. Я был в Пуэрто в 1816 и 1825 годах. Я согласен с вами почти во всем, кроме одного. Я не разделяю вашего высокого мнения о францисканских миссионерах. Мне кажется, политика римской католической церкви по принудительному обращению в свою веру прискорбна. Отношение нашей православной церкви к людям более уважительно.
Лангсдорф пожал плечами.
— Пять лет назад была объявлена независимость от Испании. И новое правительство не слишком церемонится с миссионерами. Тем не менее, меня встретили с такими же почестями, как и вас, герр доктор. У Российско-Американской компании сейчас, как вы знаете, есть владения севернее Сан-Франциско — форт Росс. Испанцы не очень этим довольны.
— Да, я слышал об этом.
— Вы, конечно, помните Кускова?
— Кускова? Дайте подумать... о, да, один из помощников Баранова.
— Мне удалось встретиться со знаменитым Барановым в Ново Архангельске в 1806. Его знали как правителя русских островов. Но, к сожалению, он уже в мире ином.
— Подобрали ли ему подходящую замену?
Фон Коцебу пожал плечами. Лангсдорф понял, что этот чистюля, командир «чистой» экспедиции, делающий «чистую» работу, не очень-то интересовался такими людьми, как Баранов.
— Насколько я понял, Баранов просил отставки еще в 1804. 15 лет спустя туда прислали некоего Гагенмастера. Говорят, Баранов стал чрезвычайно набожным, в последние свои годы он считал, что остается в Русской Америке по воле Господней. Когда Гогенмайстер прибыл на место, Баранов отчалил на своем корабле на родину. Но в дороге он умер от лихорадки, и его тело предали Индийскому океану.
Лангсдорф был поражен этим холодным, лишенным эмоций рассказом о трагическом конце Баранова. Он вспомнил, как тот настоятельно говорил Резанову, что уже стар для такой работы, просил компанию сменить его более молодым, а он уж сделает все, чтобы подготовить его должным образом. Но Баранову пришлось остаться еще на 15 лет. Лангсдорф прервал возникшую на мгновение тишину.
— А теперь, когда вместо Баранова уже другой человек, что-нибудь изменилось в Российско-Американской компании?
Коцебу с прищуром взглянул на Лангсдорфа, но потом вспомнил, что натуралист был в чине русского посланника. Наклонив голову, он сказал:
— Ничего хорошего. Я склонен думать, что те, кто говорил, что России нет места в Америке, были правы. Я имею в виду Екатерину Великую. Вы знаете, что Мехико предложило Калифорнию России?
Лангсдорф был страшно удивлен.
— Нет!
— Я получил эти сведения из доверительных источников в правительстве. Калифорния была предложена нам в качестве взятки за то, чтобы наш император признал независимость Мексиканской республики.
— И они получили отказ?
— Да, им отказали. — Потом Коцебу почти шепотом добавил: — Это секрет! Теперь, когда император Александр I мертв, некоторые в верхах думают, как бы сманеврировать, чтобы предложить эту дальнюю страну Соединенным Штатам — за определенную мзду, конечно.
Лангсдорф мысленно переместился в Санкт-Петербург. В Кронштадте остались только осколки прошлого российского флота. Страна ослаблена войнами с Наполеоном. Царь Александр I мечтал о великой империи, чтобы превзойти своего тезку Македонского и поделить мир с этим корсиканским разбойником. Тут появился Резанов с сообщением о том, что это разделение возможно. Но Резанов мертв, и царь, растративший свои силы на войны в Европе, тоже мертв. Теперь этим янки подвернулась прекрасная возможность заполучить не только Калифорнию и весь Новый Альбион, но и Русскую Америку. Да, не может быть никаких сомнений, что появление России в Америке — заслуга Резанова. Если бы он был жив...
— Может быть, вы помните, — он снова вернулся к разговору с Коцебу, — когда мы высадились с «Надежды» на Камчатке, камергер взял с собой несколько даров для школы в Русской Америке, которую он основал в бухте Святого Павла на Кадьяке?
Молодой Коцебу рассмеялся.
— Там нет никаких признаков поселения. Все разрушено. Мы встретили там одного путешественника, он сказал, что видел, как один из портретов государственного советника Резанова приспособили под святую икону. Это он видел на одной из заброшенных стоянок в проливе Кука. Даже лампаду перед ним повесили.
— Лангсдорфа это шокировало. Резанов искренне обещал охотникам и алеутам, что их дети будут учиться в школе. Мудрый Лангсдорф поспешил сменить тему.
— Я уверен, вы имели честь лично познакомиться с семьей Аргуэлло в пуэрто Сан-Франциско?
— Да, я знал нескольких Аргуэлло. Они остались такими же гостеприимными, как и в ваши времена, герр доктор. Я читал ваши воспоминания.
— О да, я никогда не встречал такого сердечного гостеприимства.
— Да, но испанцы слишком бесхитростны.
— Я так не считаю. Миссионерство было действительно единственным занятием, которое там позволялось и... — Лангсдорф на мгновение замолчал. «Зачем спорить?», — подумал он. — Какие у вас впечатления?
— Я встречался там только с доном Луисом и его братом Гервасио. — Вы...
— А когда я был там вол второй раз в прошлом году, то есть восемь лет спустя после первого посещения, снова услышал о форте Росс. Отношения с испанцами и нашими людьми, кажется, стали более дружественными.
— Так вы не видели девушку, которая была помолвлена с Резановым?
— Конечно, нет.
— И не знаете, что с ней сталось?
— Ее братья что-то говорили о ней...
— Знает... знает ли она о его смерти?
— Да, знает. Дон Луис спрашивал, видел ли я его могилу. Они узнали обо всем через Кускова.
Фон Коцебу бесстрастно кашлянул.
— Они не говорили, как она перенесла его смерть?
— Они со мной предпочитали не говорить об этом. Я знаю только, что эта женщина не имеет семьи. Они сказали, что она занимается благотворительностью и носит простую бедную одежду. — Лангсдорф прошелся по комнате, потом подошел к широким полкам с любимыми книгами, прошелся трясущимися пальцами по их ровным корешкам. Он искал редкую книгу о путешествиях сэра Джорджа Симпсона, длительное время бывшего главой «Гудзон-бей компани». Он неожиданно вспомнил, что там автор писал о встрече с Консепсьон Аргуэлло, как раз в то время, когда она стала монашенкой.
— А не писал ли сэр Джордж о том, что именно он сообщил ей о смерти Резанова? Лангсдорф уже пролистал том до половины. Ничего не найдя, поставил книгу на место, затем взял снова. Симпсон путешествовал в 1841... Вот то, что ему нужно! Как же гнусно было с его стороны хвастаться тем, что именно он, сэр Джодж Симпсон, был первым, кто принес ужасную весть! Но это было не просто сказано. Это было напечатано, что еще хуже. Но почему? Если этот Симпсон действительно сообщил Консепсьон о смерти Резанова в 1841 году, то это значит, что она ждала вестей о нем целых 35 лет! Он поставил книгу на полку. Фон Коцебу тоже знал о смерти Резанова. Он встречался с ее братом в 1816 году, девять лет спустя после смерти Резанова. Ее братья видели Кускова, который все знал, спустя четыре года после случившегося.
Кроме того, граф Румянцев доподлинно знал все обстоятельства. То, что он официально не сообщил обо всем случившимся в Сан-Франциско, было вообще непостижимо!
Да, время неумолимо и пути Господни неисповедимы. Почти все пали жертвой жизненной драмы. Сам Резанов, Хвостов и Давыдов. Все, кроме него и этой женщины.
Капли дождя стучали по оконным стеклам. Его старые кости не зря болели сегодня! Кости Резанова тоже, видимо, ноют в холодной красноярской земле.
Ей же придется пережить всех их.
Лангсдорф опять взял со стола письмо и поднес его ближе к глазам. Оно было датировано апрелем 1851 года. На доставку потребовалось всего пять месяцев. Какой прогресс! Не то, что в 1806!
«Пуэрто Сан-Франциско во многом изменился с тех пор, когда вы, уважаемый герр доктор, были здесь, а вслед за вами — и фон Коцебу. Теперь это место заполнили янки, привлеченные открытым здесь золотом. В прошлом году они стали здесь полными и единственными хозяевами. Мы посетили их город в устье Колумбии, носящий название Портланд. Вы сами были недалеко от него, когда искали подходящее место для русского поселения. Ведомые вашими описаниями, мы с огромным трудом отыскали старые испанские места, потому что в 1834 году мексиканские власти расформировали испанские миссии и присоединили францисканские владения к своим, а все их здания почти до основания разрушились... Позднее мы отправились и в новый монастырь ордена доминиканцев, построенный в Монтерее, чтобы посмотреть, как их первая монахиня облачается в белую манию. Это была женщина лет шестидесяти. Никто не делал тайны из того, что она была когда-то помолвлена с Николаем Петровичем Резановым, с которым вы имели честь путешествовать. Ее имя стало здесь легендой. Все говорят о ней с превеликим уважением. Она ухаживала за больными, обучала детей — как индийских, так и испанских. Кажется, она давно уже стала на путь добровольного монашества, что не совсем типично для этих мест. Она проводила все свое время, посещая нуждающихся, старых и убогих. Я понял, что она не была в Сан-Франциско уже много лет. Консепсьон пожелала вернуться сюда 20 лет назад, после смерти своих родителей. Она жила с семьей де ла Куэва. То, что многие делали ей предложение — просто слухи. Было, пожалуй, одно, от богатого бостонца, но она отказала ему, как отказала бы и всем другим...»
Когда Коцебу в первый раз сообщил ему, что Консепсьон Аргуэлло так и не вышла замуж, что стала вести жизнь монахини, он был удивлен, но не более того. Он был уверен, что клятвы молодости недолговечны, и что она теперь обзавелась большим семейством. Только теперь он понимал, что Консепсьон оказалась не только прекрасной, своевольной и страстной женщиной — она оказалась сильнее духом, чем все они, вместе взятые, способной вынести все тяжести с высоко поднятой головой, чтобы без жалоб и компромиссов прийти к своему горькому концу. Его душа наполнилась великой жалостью.
Разве можно было предположить, что такой конец был уготовлен ей, мечтавшей увидеть Петербург во всем его сиянии и великолепии? Была ли она счастлива? Он покачал головой. Это не вопрос. Человеческое счастье не тема для догадок. А дело в том, что, родившись для истории, почувствовав всем существом ее близкое дыхание, она была призвана умереть в безвестности. Или — она была святая, и Господь сделал так, чтобы испытать ее душу и закалить ее? Да, этой женщине было присуще великое терпение. В ее жизни в лице Резанова появился реальный Фауст, пообещавший бросить к ее ногам весь мир.
Консепсьон Аргуэлло, простая испанская девушка, живущая на краю земли. Она была схожа с нежным цветком, который неожиданно попал в грязный запущенный угол в окружении сорной травы. Ее крохотный мир, ограниченный сводом католических законов и неприкрытым провинциализмом, закончился навсегда с появлением здесь русского Принца, пообещавшего отдать ей свою любовь и весь мир. Но он не смог дать ей даже малого. То был ее искуситель, мечтавший об империи, обещавший сделать ее своей королевой. Взяв ее за руку, он довел ее до немыслимых высот, а затем исчез, как прошлогодний снег, чтобы не вернуться никогда. Со дня исчезновения Резанова для нее наступил тягостный период искушения. Но за какие грехи? Лангсдорф метался. Господь Бог наказал ее за чрезмерные желания? Или он силой своего разума уберег ее от прижизненных страданий, поразив демона?
Нет, люди, рожденные для Истории, не заслуживают счастья. Они заслуживают величия. Резанов был рожден для Истории, и всегда понимал это.
«Но разве это является поводом, чтобы мы пошли войной на Японию, Ваше Превосходительство?...» — продолжал свой внутренний спор с Резановым Лангсдорф. Да, он заслуживал счастья. Все люди должны быть просто счастливыми. И он, Лангсдорф, не в меньшей степени, чем Резанов и Консепсьон.
Доктор снова приник к письму: «О ней говорили, что она и в шестьдесят была прекрасна своим достоинством и тактом...»
Но почему, почему именно сегодня это письмо так разбередило его душу? У него возникло чувство, что это он убил Резанова и толкнул прекрасную женщину на тернистый путь, что он остановил продвижение русских в Америке. И все из-за того, что он отказался сопровождать камергера через Сибирь, и он по дороге умер?
Нет проку от самобичевания. Немыслимо, чтобы прекрасная женщина приняла обет безбрачия и нация прекратила свое продвижение по чужой стране только из-за того, что царедворец однажды поссорился со своим врачом.
Нет! Была какая-то историческая целесообразность в смерти Резанова. Переселение людей должно было когда-то закончиться, а вместе с ним и прыжок русских промышленников через Тихий океан. Потеря интереса к Русской Америке показала, что нация, обеспокоенная вмешательством чужестранцев в свою культуру, решила вернуться в свой духовный дом.
Старый фон Лангсдорф закрыл лицо руками. Да, у него было очень много времени для раздумий о прошлом. Он скомкал письмо и швырнул его на пол.
Туман полностью скрыл из вида готические шпили кафедрального собора. Дождь без устали стучал по окнам, как будто просясь в дом.
Неужели история — бессмысленный, бесконечно тянущийся рассказ о вещах, которые никак не совпадают друг с другом или идут в какой-то неведомой последовательности? Где же намек на то, что все события в жизни связаны в одно целое? Суровое предупреждение Гете, смысл которого никогда не доходил до него, вернулось в его сознание: «Ради всех святых, никогда не старайся заглянуть по ту сторону явлений. Они сами по себе уже урок...»
| |